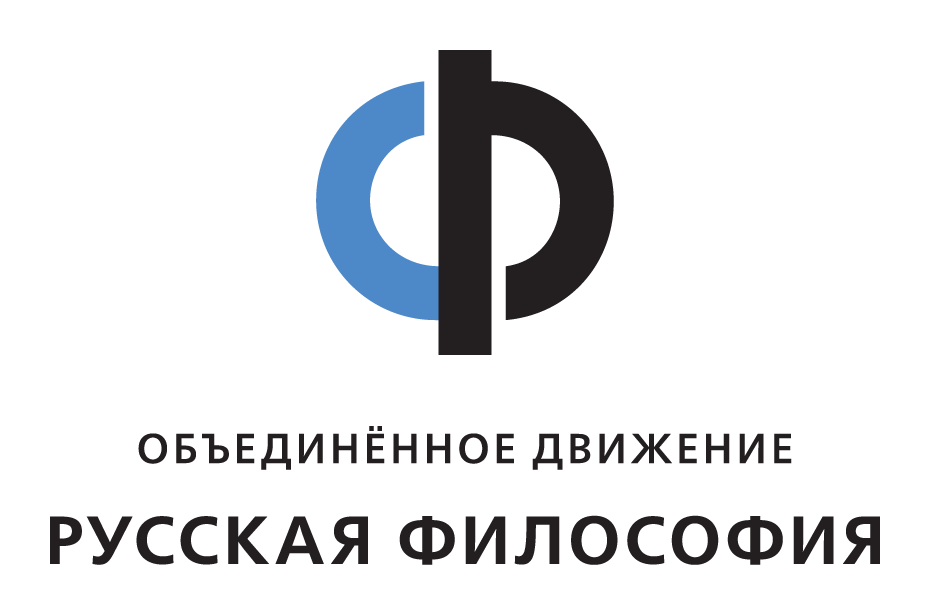Дорогие друзья, очень приятно наблюдать инициативу Большого Философского Собора, особенно в свете того, что последние несколько десятилетий философская мысль находится в некоем упадке в нашей стране. К идеям и мыслям, особенно сейчас, представители государства относятся по какому-то остаточному принципу, не понимая, что от идей идет все остальное.
Наше бытие, в котором мы существуем, разворачивается именно из сферы идей. Главным выражением этого является философия, находящаяся в непрерывном поиске бытийной мудрости. Без осмысления происходящего невозможно это происходящее понять и в нем полноценно и адекватно функционировать. Поэтому это очень важная инициатива. Я ее поддерживаю и со своей стороны хотел бы сделать несколько заметок по представлению о русской идее относительно предложенной темы и начать с некоторых дефиниций, которые я для себя выражаю как традиционалист.
Во-первых, как я понимаю русскую идею, для того чтобы дальше отталкиваться от этого определения. Во-вторых, как я понимаю понятие русского.
Русская идея – это идея, на мой взгляд, существования русского народа, понятого как надэтническая общность, возникшая на основе высокой дифференцированной культуры, которая является неотъемлемой частью, одновременно с этим еще и признаком цивилизации. То есть понятие "русское" – понятие не этническое, а надэтническое, и, собственно, вот эта культурная матрица русского народа как субъекта русского бытия и основана на этой высокой дифференциальной культуре, которая, в свою очередь, проистекает из православия, принятого в Византии. Как раз это принятие православия в Византии и можно принимать за точку отсчета существования русского народа и созданного в будущем русского государства, которое и обобщает русское бытие. В этом смысле быть русским для меня, как для традиционалиста, означает быть православным и развиваться в этой культурной матрице, которая из православия и вытекает.
На мой взгляд, нет смысла говорить о русском народе как о чем-то цельном до принятия православия, потому как скорее это была этническая среда аграрных масс, над которыми стояла чужеродная по отношению к ним элита, представляющая собой носителей совершенно другого сознания, мировоззрения и ассимилированная этими аграрными массами в ходе русской истории. И особенно после принятия православия. Таким образом, русская идея, то есть идея существования русского народа, на мой взгляд, заключается в идее спасения, которая является смыслом и целью бытия в православии, православного христианина, человека, который православие принимает, принимает христианство как обоснование смысла своего существования. Исходя из этого тезиса, я бы дальше и построил свое повествование, которое апеллирует к понятию четвертой политической теории.
Я хочу напомнить, что это идеологический концепт, который был разработан и продвигается русским философом Александром Дугиным и его последователями в течение уже многих лет. В том или ином виде эта концепция существовала и прежде, но, посредством некоторых интеллектуальных итераций, выкристаллизовалась в четвертую политическую теорию лишь в последние десять лет. До этого были различные приближения к ее осмыслению. В чем ее суть?Идея четвертой политической теории в некоем открытом коде к поиску идеологии существования русского общества, русского государства и в конечном итоге идеологии, понятой как некая дорожная карта неких этапов продвижения идеологии русской идеи. Этапы описания шагов к продвижению нашего общества – не знаю, можно ли его назвать в полной мере русским на сегодняшний момент – к русской идее. К этой самой идее спасения.
Основная идея четвертой политической теории заключается ввыходе за рамки модерна как философской парадигмы Нового времени, которое, собственно, и породило три политические теории модерна. Это либерализм, марксизм и фашизм со всеми их производными. То есть четвертая политическая теория ставит под вопрос эти три политические теории модерна, ставит под сомнение их онтологические основания и – по большому счету как следствие или, наоборот, как предпосылку этого сомнения – ставит под сомнение сам модерн, который эти три политические теории и породил. Модерн, как парадигму, в данном случае я представляю неким последовательным поэтапным отрицанием традиций. Это парадигма, предшествующая модерну, когда собственно на отрицании традиций, всего традиционного и выстраивался модерн, от каких-то философских заключений в момент голландской буржуазной промышленной революции XVI века и до полного воплощения основных постулатов и категорий модерна в течение XX века, до непосредственного воплощения, перехода к парадигме постмодерна, который условно можно отнести к перелому XX и XXI столетий. Как некие философские изыскания он разворачивается гораздо раньше. Какие-то наметки, фрагменты постмодернистского парадигмального мышления мы можем обнаружить в конце XIX – начале XX века, но собственно постмодерн, как некая воплощенная реальность, во всей полноте начал развертываться в XXI веке, и на наших глазах переживает становление, трансформацию, стремится к своему полноценному доминированию.
Это отдельная интересная тема, но мы возвращаемся к модерну, который, на мой взгляд (тут я согласен со многими философами-традиционалистами), выстраивался на отрицании традиций. Соответственно, отрицание модерна подразумевает возвращение к традиции. Если мы берем четвертую политическую теорию как то, что выходит за рамки модерна и отрицает три политические теории модерна, то, соответственно, главным смыслом четвертой политической теории является возвращение к премодернистским, то есть основным традиционным постулатам, что, собственно, подверг такому вытеснению из сферы мысли модерн в первую очередь. Тут, на мой взгляд, знаковым было событие, когда Декарт высказал гипотезу о том, что человек вполне может жить без Бога, то есть предложил вынести Бога за скобки, и сказал: "Давайте попробуем обойтись без страха Божьего, к которому постоянно обращался человек традиционного общества, и будем жить без него, как будто Бога нет, Бог – это некая первопричина". То есть он создал человека, а дальше человек сам. У него есть рассудок, и смотрите, какие сразу открываются возможности свободы, как сразу раскрепощается человеческое общество, и, безусловно, отказ от Бога был связан с огромным выбросом энергии – человеческой, бытийной, интеллектуальной. Огромное количество возможностей человек в себе открыл, допустив возможность существования без Бога.
Собственно, все остальное время модерна как философская парадигмы философы-модернисты, позитивисты (Миль, Спенсер, Конт), прочие философы, пытавшиеся мыслить действительность без Бога, без религиозного сознания, без страха Божьего, – все они развивали отправную гипотезу Декарта, перетолковывая основные категории модерна. Например, категорию духа в религиозном обществе, сознании – а это божественное присутствие в человеке – то, что превращает глину в божественное, живое, сознательное существо. Философы же модерна говорят, что, если Бога нет, значит, это некая внутренняя сила, готовность человека к бытию. Душа же – что-то эмоциональное, какие-то внутренние струны. Остается телесность в качестве главной категории этого нового мира без Бога, где материя стала главной движущей силой, а вечность заменена такой категорией, как время. Время было принято линейным и, собственно, дальше все переместилось в линейное временное материальное измерение, где и возникли на основе трех протестантских ветвей христианства три политические теории модерна. И либерализм, и марксизм, и фашизм – это материалистические позитивистские прогрессистские идеологические модели, которые могли содержать в себе какие-то квазирелигиозные компоненты лишь для того, чтобы в дальнейшем их окончательно преодолеть и уже избавиться полностью от такого религиозного духовного присутствия.
Метафизика воспринималась в вульгарном виде, как некая мистика, какие-то непонятные необъяснимые проявления того, что отвергнуто, и все остальное полноценно было сверху донизу основано на этих основных базовых предпосылках модерна, что принципиальным образом отличает четвертую политическую теорию от трех политических теорий модерна. Она перестает абсолютизировать материализм, прогрессизм и позитивизм, больше не делает из них некие новые божества языческого толка нового материального мира модерна. Она, наоборот, ставит их под сомнение. Это могут быть и значимые элементы человеческого бытия, но уж точно не самые главные, даже не на втором и не на третьем месте. Она возвращает Бога на его место. Если Декарт вынес Бога за скобки, то четвертая теория реабилитирует традицию и возвращает Бога на его место. И прогрессистское движение "вперед и вверх" видится как "назад и вниз". Так видят традиционалисты ипостась сегодняшнего мира, его падение, если критерием брать дух, духовность, метафизику и божественное присутствие, а не материально-техническое развитие. С точки зрения духовных оценок мир современный падает, катится в бездну, а растет только в материальном. А материальное не является главным, как и все, что вытекает из этого нового переосмысления нашей реальности.
Четвертая политическая теория выходит за рамки модерна, сам модерн ставит под вопрос и, соответственно, выстраивает свои идеологические основания на иных принципах, видя перед собой вот эту конечную цель. Это цель существования в нашем случае русского мира – это идея русского спасения, то есть создания условий в нашем русском бытии для достижения этой цели, то есть для этого спасения. И четвертая политическая теория является в этом смысле дорожной картой на пути к спасению, к этой русской цели – русской идее.
Конечно, четвертая политическая теория – это некоторый технический термин, который используется в таких первых философских осмыслениях того, что может быть альтернативой трем политическим теориям. Но для более широкого применения можно использовать такие определения, как философия традиционализма, традиционалистская философия или, например, неотрадиционализм. Понятно, что здесь есть некая отсылка к интеллектуальным изысканиям Рене Генона. Но, с другой стороны, во-первых, это является уделом небольшой интеллектуальной группы, в период, относящийся к началу XX столетия, а во-вторых, ничему не противоречит. Да, действительно идеология традиционализмачетвертой политической теории основана на традиции. Да, действительно она критически относится к модерну, к Генону и его последователям. Да, действительно она выстраивает новые основы бытия на базе этого возвращения к традиции, воспринятой не как что-то уходящее, какой-то пережиток линейной оптики прогрессистского сознания модерна, а как то, что никуда не уходило и не могло уйти, находясь в центре человеческого бытия. Если мы от этой линейности, которая является исключительно чистой категорией веры, тоже опять-таки откажемся, то увидим, что традиция не могла быть преодолена, потому что она и не могла никуда уйти, потому что она есть и смысл человека, в своей онтологической бытийной основе является изначальным, традиционным Божественным.
На уровне рассудка человек не отрицал это, пытался заболтать и замолчать, отказаться, его подсознание, коллективное бессознательное – то, что является неотъемлемым, не позволяет этого сделать. Человек может отрицать традицию, божественную суть только на уровне рассудка, но когда рассудок засыпает или перестает доминировать, тогда его подлинная человеческая суть, традиционная, бытийная, обнажается и дает о себе знать. И человек понимает, что оно никуда не делось и не может деться. Мы, по сути, не возвращаемся назад, если обращаться к прогрессистским российским оценкам происходящего, а двигаемся вперед, выстраиваем традиционное общество перед собой. Традиция как будущее, традиционное общество – как то, что стоит впереди нас, и в этом смысле весьма уместен и полезен нам становится постмодерн, парадигма постмодерна, которая также является, в философском смысле, открытым кодом, некоей системой координат, в которой можно развить либеральные прогрессистские, модернистские тезисы, что и делают, собственно, неолибералы, глобалисты, сторонники либерального постмодернизма, воспринимая человека даже не как субъекта, что утверждал модерн, а как некий объект. Это объектно-ориентированная онтология Хармана Грэма например. Выстраивается множество объектов – еще одна философская категория – которые должны управляться искусственным интеллектом, потому что он более совершенен, избавлен от иррациональности человеческого сознания, более рационален, последователен, а значит, этим множеством таких расчеловеченных, атомарных, рассыпных, дискретных индивидуумов, постлюдей, биомеханоидов должен управлять искусственный интеллект. Потому что человек, лишившись своей как бы онтологической субъектности (начинают опять-таки настаивать на этом философы-модернисты – Жиль Делез и др.), как бы становится совсем нерациональным, и уже никуда не годится это множество постчеловеческих особей, поэтому только искусственный интеллект и способен им управлять.
Кстати, постмодерн либеральный критикует модерн как раз за эту слишком ярко выраженную субъективизацию человека, за слишком сильное доминирование рассудка, за волю, за целеустремленность, в котором жили в обществе модерна. Это чистый фашизм с точки зрения постмодерна. Что значит "волевое начало"? Что значит – люди собрались и вместе куда-то движутся в рамках политической нации? Это фашизм. Или – что значит воля? Решил человек – и делай. Мало ли он что там решил. Может, это противоречит (как правило, противоречит) воле другого человека и других людей? Соответственно, воля и рассудок тоже должны быть размыты. Вообще, субъектность, человеческая цельность размываются в постмодерне, человек превращается из субъекта в объект, постепенно в ходе этих трансформаций, экспериментов над полом, гендером, идентичностью, идя по пути отказа от коллективной идентичности. Это либеральное осмысление постмодерна, то есть использование системы координат постмодерна в интересах либерализма. Но точно так же мы можем использовать постмодерн в интересах традиции. Постмодерн критикует модерн? Замечательно, мы согласны! Но только не за волевое начало цельности слишком субъектного человека, а наоборот, за расчеловечивание, обезволивание, абсолютизацию материального, и от метания метафизического. Традиция тоже критикует модерн. И самое главное преимущество постмодерна в том, что он как бы снимает доминирование модерна, отменяет его, создавая равные открытые условия – и для традиций, и для модерна. И вот в этой равной борьбе мы, собственно, с модерном и вступаем в схватку за будущее. Мы, традиционалисты, вытесняем с пьедестала модерн, который доминировал в течение XVII–XX веков, особенно последние три столетия. Мы его как бы отодвигаем, обнуляем и вступаем в равную борьбу с традиционалистских оснований.
Вот в этой открытой системе открытого кода постмодерна преимущество постмодерна для нас, и он открывает возможность четвертой политической теории. Уже не доминируют три политические теории модерна. Отправляются на свалку марксизм, либерализм и фашизм. И мы начинаем выстраивать идею неолиберализма, неотрадиционализма, традиционалистскую идеологию будущего.
Теперь скажем совсем кратко, буквально по пунктам, в чем выражается идеология традиционализма в прикладном качестве, потому что сразу же начинает возникать ряд возражений, вопросов, контрдоводов. Самый главный контрдовод – возвращение к традиции означает отказ от всего современного, технологий. Одна из главных риторических уловок в ходе языковых игр модерна против традиции заключается в тезисе: "Тогда откажитесь от смартфона, ходите в лаптях, катайтесь на телегах, что это вы ездите на автомобилях?" Это чистая уловка, потому как традиция возвращает на место базовые вещи: вечность, Бога и метафизику. И совершенно мало внимания уделяет материальному, с пренебрежением относится к нему, ставя его гораздо ниже, чем духовное. Соответственно, значение материального не абсолютизируется так, как в модерне. В модерне смартфон обожествляется, как паровая машина, которая совершила переворот в сознании европейского человека и стала причиной промышленной революции, на основании которой выстраивались и дальше уже социальные основания европейского западного бытия.
Традиционалист не абсолютизирует материальное, для него оно остается в рамках набора утилитарных функций, то есть по телефону традиционалист просто разговаривает, на машине просто ездит. Он не обожествляет машину, не поклоняется ей, на основании этого не трансформирует свое бытие, как это сделал модерн. Раз паровая машина появилась, значит, нужно пересмотреть азы нашего бытия, общества, социального устройства. Раз паровая машина есть, значит, давайте бросим вызов Богу, значит, Бога давайте уберем – и дальше полная перестройка социального устройства. Нет, традиционалисты этого не делают. Богу – Богово. Бог и спасение остаются на месте, традиционный образ жизни остается. Добавляются паровая машина, автомобиль и телефон. Мы звоним по телефону, и при этом спасаемся.
Бога ставим в центр своего бытия, возвращаем трехсоставную модель "Бог, человек и природа" вместо усеченной, кастрированной модернистской, субъектно-объектной пары "человек и природа". Вот и всё. А телефон, пожалуйста! Это, кстати, описано даже и у многих западных идеологов и теоретиков, например такая категория, как "модернизация без вестернизации", когда мы научно-технические достижения воспринимаем как некое утилитарное проявление, используем отдельно, а духовное, божественное, всё, что на этом основано, отдельно, не противопоставляя друг другу. Мы не вестернизируем свое общество, а лишь модернизируем его только в технологическом ключе. Таким образом, идеология четвертой политической теории неотрадиционализма спокойно относится к технологиям, они остаются на своем месте. Просто их статус меняется на утилитарный и прикладной, и дальше следующие вопросы, которые всегда возникают, когда речь идет об идеологиях – что будет с экономикой? Идеологи традиционализма всегда настаивают на многоукладной экономике, когда крупные средства производства ресурсодобывающей и тяжелой индустрии, военная промышленность принадлежат государству, средние производства принадлежат коллективам, мелкое производство или сфера услуг (парикмахерские, кафе, мастерские) могут принадлежать частникам. Это что касается экономики.
Самое главное – это возвращение религиозного сознания (Бога, церкви и спасения) на место, туда, где оно должно быть, и это основная категория, а дальше – всё, что из нее вытекает. Например, кто является субъектом в идеологии традиционализма? Народ, но народ, не перетолкованный модерном как некое множество граждан того или иного государства, как сейчас это используется часто (народ Америки, французский народ, народ страны Российской Федерации, просто все множество граждан РФ), а народ как органическая общность, его этносоциологическое представление, как надэтническая, органическая общность на основе общей культурной матрицы. Это субъект идеологии традиционализма. С точки зрения государственного устройства это традиционное государство, где многообразие этносов, культур, конфессий и языков является нормативом. Это еще можно определить как государство империи. Опять-таки начинается много понятийных уловок, что в империи должен быть император. В ней может быть монарх, но необязательно. И важно еще оговаривать, что империи нужно разделять на два типа: морские и сухопутные. Морские основаны на принципе "метрополии – колонии". Сухопутные – на принципе "центр – периферия". Морские империи эксплуатируют свои колонии, сухопутные – обустраивают.
Это два разных типа империй, и тот самый империализм, который критиковали революционеры XX столетия, относится собственно к сфере морских империй, а если мы говорим о России, то это сухопутная империя, обустраивающая, которая развивает свои окраины и свою периферию.
В сфере геополитики, больших международных отношений – это идея многополярного мира, плюрального мира, где все культуры, цивилизации и традиции находятся в равных правах, а не как сейчас, когда одна из цивилизаций назвала явление своего исторического опыта универсальным и абсолютным, пытается доминировать над человечеством, подавляя и уничтожая все многообразие культуры, загоняя всех в свой культурно-цивилизационный стандарт Запада, объявленного как бы идеальной цивилизацией, а всех остальных помещая в категорию варваров и дикарей. Это основные вехи идеологии традиционализма, которая противостоит идеологии модерна и в которой только и возможно достижение русской мечты, понятой как идея спасения для народов как органических общностей, для русского народа в частности. То есть это условия для спасения. Таким образом, сам по себе модерн как парадигма противостоит русской идее. Ее достижение возможно лишь через преодоление модерна. Это не означает полную отмену модерна. Какие-то фрагменты могут быть использованы, особенно относящиеся к сфере материального, но не парадигмальные основы, связанные с отрицанием Бога, божественного и духовного, или абсолютизацией времени. Время – важная категория, но не единственная, основная и доминирующая. И опять-таки мы можем брать от модерна какие-то элементы волевого начала человека, целеполагание и рассудочность, не делая их единственными категориями человеческого бытия. Рассудок – важно. Воля, главная категория модерна, важная составляющая человека, но божественное присутствие важнее. Дух, душа и стремление к спасению, то есть идеология традиционализма, в этом смысле идеология будущего. Она разворачивается в системе открытого кода парадигмы постмодерна, которая также является данностью. Она ставит под сомнение модерн, но не отменяет его, не отрицает полностью, не ставит под запрет. Просто ставит его на свое место, вместе с его базовыми основами, и целью, естественно, является русская идея как спасение, к чему мы, традиционалисты, и все, кто за нами следует, стремимся.